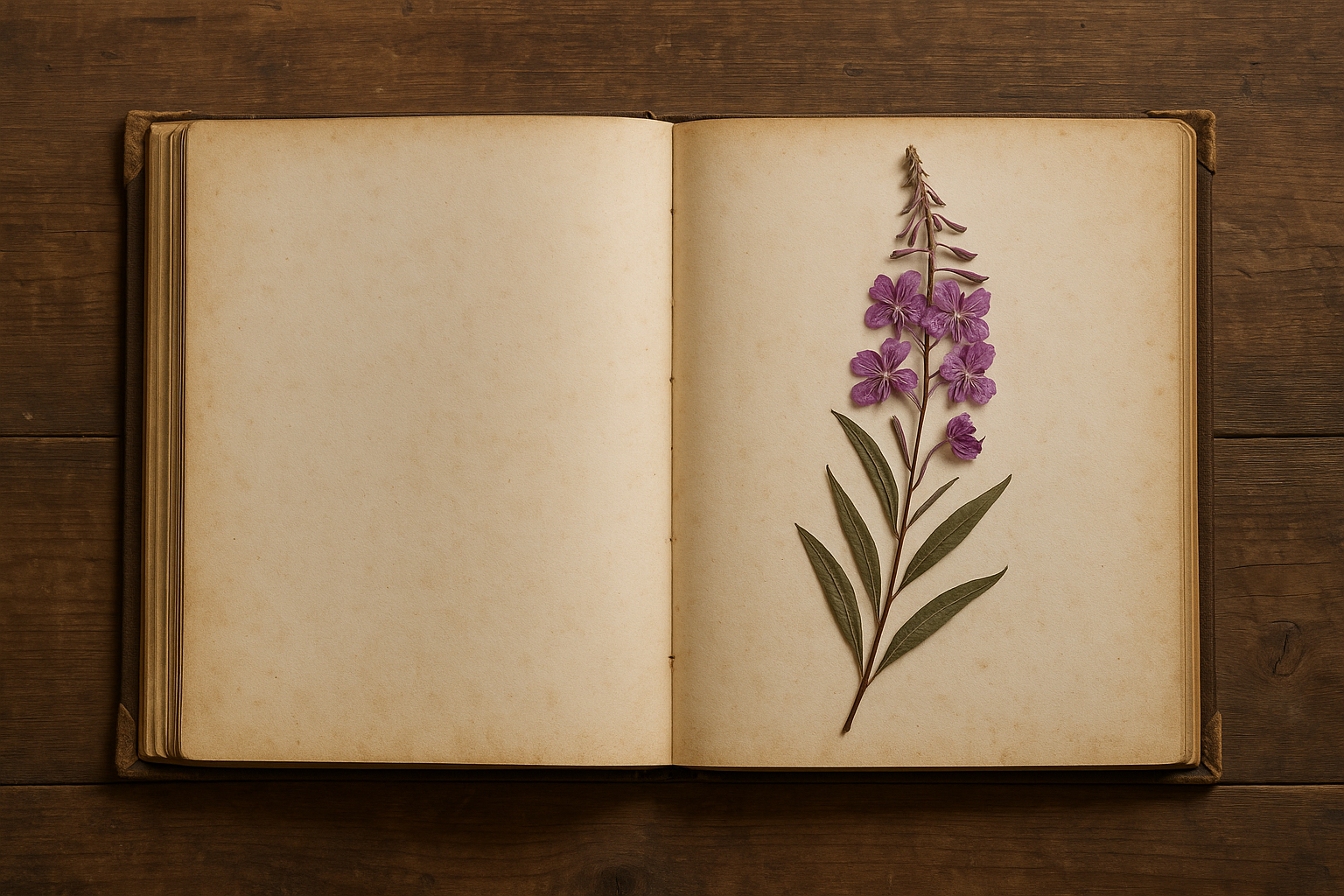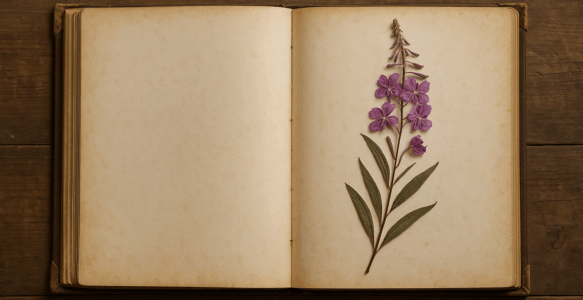По материалам историко-краеведческого музея Баргузинской средней общеобразовательной школы Баргузинского района Республики Бурятия, подготовленным к 180-летию восстания декабристов.
В эпоху декабристов женщины еще не играли активной роли в революционном движении. Только в 1870—1880-е годы, в разночинно-демократический период, они впервые выступили равноправными деятельницами его, идя рука об руку с товарищами мужчинами. В силу целого ряда объективных социально-политических причин подруги декабристов не могли еще быть такими. Тем не менее они явились соучастницами великого освободительного движения в России в первую половину XIX века.
Жены декабристов выполняли, по существу, важную общественную миссию, помогая первым политическим изгнанникам не погибнуть в тяжелых условиях царской каторги и ссылки, сохранить свои физические и моральные силы, создать товарищеский коллектив, который сумел противостоять многим трудностям их долголетнего изгнания. Поэтому мы вправе говорить не только о декабристах, но и о женщинах-декабристках.
Большинство декабристов на поселении в Сибири женились на простых девушках, вышедших из народа: иногда даже на таких, которые в те времена с точки зрения мещанской морали, считались «опозоренными». Так, например, Михаил Кюхельбекер женился на сестре хозяина дома, где жил в Баргузине, сироте, «мещанке» Анне Степановне Токаревой. У нее был «незаконнорожденный» ребенок. Родные грозили выгнать несчастную из дома, а декабрист, демократ по убеждениям, женился на ней. Но так как перед этим он стал крестным отцом ее ребенка, то брак с «кумой» был признан «незаконным». По доносу одного из священников «преступную» жену приговорили к «церковному покаянию», а « преступного» мужа — к высылке из Баргузина. Только заступничество влиятельной родни в Петербурге вернуло его к семье.
Насколько глубоко был привязан М. Кюхельбекер к своей жене, видно из того, что на расписке об ознакомлении с указом Синода о расторжении брака он написал: «Если меня разлучат с женой и детьми, то прошу записать меня в солдаты и послать под первую пулю, ибо жизнь мне не в жизнь». Жена была М. Кюхельбекеру единственной отрадой в тяжелой жизни на поселении. «Она — простая, добрая», – писал он о своей подруге Оболенскому.
Так же хорошо отзывался об Анне Степановне его брат Вильгельм: «В ней много и хорошего, а главное, любовь искренняя к мужу: сверх того, неограниченная к нему доверенность; вообще брат счастлив семейством своим». Грамоте Анну Степановну обучал Вильгельм Кюхельбекер, так как Михаил был очень занят по хозяйству. Впрочем, и всем членам семьи хватало работы и заботы в повседневной будничной суете. Как известно, Михаил Кюхельбекер устроил в своем доме первую в Баргузине небольшую больницу и аптеку и сам бесплатно лечил местных жителей. Они с уважением называли его «Карлыч дохтур» и надолго сохранили о нем благодарную память.
Степановну старожилы вспоминали как радушную хозяйку, которая «не гнушалась гостями» из степных улусов, когда они приезжали к «Карлычу» за лекарствами, и сама помогала ему в служивании больным людям, многочисленными ее занятиями были, конечно, домашнее деревенское хозяйство и воспитание детей.
Анна Степановна умерла молодой, а сирот-девочек после смерти отца его родственники увезли в Европейскую Россию, где воспитали и дали образование. В Баргузине до сих пор живут отдаленные потомки А.С. Токаревой, среди которых сохранились кое-какие смутные предания о прабабке — жене декабриста.
Старший брат Михаила Кюхельбекера Вильгельм (лицейский друг А.С. Пушкина, «чудак Кюхля») также женился в Баргузине на дочери местного почтмейстера — Дросиде Ивановне Артеновой. В письме к Пушкину (1836) В. Кюхельбекер делился со своим близким другом планами предстоящей женитьбы на простой девушке -сибирячке, восторженно изображая внешний облик своей любимой: «Я собираюсь жениться; она в своем роде очень хороша: черные глаза ее жгут душу». Жених был уже не молод, но не оставлял мечту обрести личное счастье и семью, чтобы не быть совсем одиноким под старость: «И, друг, хотя мой волос поседел, а сердце бьется молодо и смело… Терпел я много, обливался кровью…что, если в осень дней столкнусь с любовью».
Простая, скромная баргузинка вызывала у поэта-романтика теплое чувство сердечной привязанности, придав ему, измученному 10-летним пребыванием в крепостях и затем ссылкой, молодость и прилив сил. Дросида Ивановна была верной и преданной спутницей мужу-изгнаннику, сопровождая его во всех переездах. Нередко ей первой поэт-декабрист читал свои стихи, делился поэтическими замыслами и творениями. Конечно, она довольно примитивно воспринимала плоды его высокого вдохновения. Но в душе этой «дикарки», как ласково называл ее муж, был и поэтические струнки, и любознательность, и пытливый ум: «Она — охотница слушать сказки… Утешает меня великая ее охота расспрашивать о том, о другом, о третьем; вопросы-то ее истинно младенческие, но они все-таки показывают охоту узнать кое-что».
Правда, семейная жизнь ссыльного поэта была далека от романтических мечтаний его молодости. В женитьбе им руководило главным образом вполне трезвое чувство создать семейный очаг. В жене с ее врожденным трудолюбием он видел опору в жизни: «Я ее искренне и от всей души люблю как помощницу в делах житейских и товарища на поприще земном. Теперь же она мне втрое милее как мать моего дитяти». «Она простая и довольно добрая, вот и все», – писал о ней В.К. Кюхельбекер Е.П. Оболенскому. Дронюшка вышла из мещанской среды, узкий обывательский мирок которой все же тяготел над ней.
Но поэт-декабрист никогда не упрекал свою жену в отсутствии того, что нельзя было от нее требовать. Он ценил в ней чувство к детям и любил ее как спутницу суровых лет жизни, не побоявшуюся связать свою судьбу с бедняком, политическим ссыльным, и как мог заботился о ней. На заботы мужа Дросида Ивановна отвечала тем же.
Когда тяжелая болезнь подкосила В. Кюхельбекера и он ослеп, она самоотверженно ухаживала за мужем. В стихотворении «Слепота» В. Кюхельбекер упоминает о своей верной подруге: «Все одето в ночь унылую, все часы мои темны; дал Господь жену мне милую, но не вижу я жены». Семейная жизнь Дронюшки с «Кюхлей» была далеко не легкой, но Дросида Ивановна все пережила, вынесла, была в течение длительного времени заботливой сиделкой около безнадежно больного мужа и проводила его в последний путь.
Трогательно ее письмо к сестре мужа Ю.К. Глинка (1846) из Тобольска, в котором бесхитростно, обстоятельно и просто описывает она недавнюю смерть мужа, его похороны и всю горькую обстановку своего вдовства и сиротства детей. «Похоронили его через 3 дня, как желал В.Карл. — надлежащим порядком; все товарищи приняли участие, вынесли из дома на руках и в похоронах хотят принять участие. Но я в этом случае не расположена и желаю принять употребленные расходы для друга на свой счет».
В этих словах сказалось достоинство и гордость простой женщины, бедной вдовы, которая не хочет вводить в расходы товарищей — соизгнанников мужа. Она без всякого жеманства и кривлянья отказывается от их материальной помощи: ей довольно одной моральной поддержки в ее большом горе.
Дальнейшая жизненная повесть Д.И. Кюхельбекер сложилась так. После смерти мужа ей и детям были выданы «паспорты для свободного проживания в сибирских губерниях», а затем, согласно «высочайшей» воли, сын и дочь ее были отправлены в Петербург на воспитание к тетке Ю.К. Глинка. Вдова декабриста не сразу согласилась отдать дочь родственникам мужа, а также на издевательскую «милость» царя – лишения сына фамилии отца, лишь бы только устроить его в гимназию на казенный счет. Но в итоге раздумий и советов некоторых соизгнанников мужа вынуждена была пойти на это. Под фамилией «Васильев» Михаил Кюхельбекер поступил в университет и только после амнистии 1856 года получил право носить действительную фамилию.
На склоне лет Дросиде Ивановне посчастливилось пережить отрадное чувство в связи с подготовкой к печати произведений ее покойного мужа. Она живо реагировала на это крупное литературное событие, имевшее прямое отношение к ее семье. Дросида Ивановна писала дочери о том, что сбылись предсказания ее отца: «Правду он говорил мне вспомнят меня рано или поздно; так и случилось: слишком через 30 лет должны будут выйти в свет сочинения». На запрос дочери, собиравшей библиографические сведения об отце для предполагаемого издания его произведений, вдова В. Кюхельбекера сообщала интересные воспоминания о днях совместной жизни с ним. Она рассказывала о тех испытания, невзгодах и даже опасностях, какие вытерпела семья поэта-декабриста в Сибири и лично она, его жена — сибирячка.
К сожалению, подлинник этого письма не сохранился, а тот вариант, который появился в печати, явно обработан и отшлифован, отчего утрачен его самобытный колорит и не посредственность. Но тем не менее, это, очевидно, однако из последних писем жены. В. Кюхельбекера и оно весьма ценно как документ, рисующий жизнь декабристов на поселении.
Последним документом о Дросиде Ивановне является записка в литературный фонд сына декабриста Волконского — Михаила Сергеевича, в которой он ходатайствует о пособии на похороны вдовы (умерла Д.И. Кюхельбекер в 1886 году в Петербурге) поэта-декабриста Кюхельбекера и распискаего, в которой сказано: «На похороны вдовы Дросиды Кюхельбекер для передачи ее внуку, ученику реального училища, Миштовту сто пятьдесят рублей получено».
В Сибири не осталось прямых потомков Дросиды Ивановны Артеновой, но в Баргузине в 1930-е годы еще жили ее родственники – Кузнецовы, в семье которых хранился как реликвия небольшой чугунок — подарок Дросиды Ивановны кому-то из представителей старшего поколения. Это «достопамятство великое», как назвала старушка Кузнецова самую обычную вещицу, которая дорога как память о жене декабриста сибирячке…